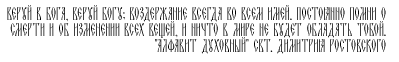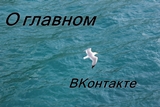Жизнь прихода
Высшее из искусств
Высшее из искусств…
Интервью с плотником Олегом Тихоновичем Чалых

Когда появился интерес к дереву как ремеслу?
У меня отец был столяром, но я у него особенно ничему не учился, была, какая то небольшая работа, делали рамы, но не долго, а так ни столярной, ни плотницкой работой специально в юношеские годы не занимался. Уже после окончания института, появился живой интерес к истории, именно русской истории, Древней Руси, стал увлекаться культурой и искусством. Постепенно на первый план стала выходить древнерусская архитектура. Все это виделось как особое мировоззрение, принципиально иной стиль отношения к жизни, словом в старорусском искусстве и архитектуре я увидел ответы на многие мировоззренческие вопросы, которые меня волновали тогда. Стал посещать заседания общественной инспекции МГУ ВООПИК, принимал участие в секции реставрации, она находилась на ул. Обуха, в известном доме Телешова. Также в это время существовала такая шефская секция неквалифицированной помощи реставраторам старой Москвы. Был такой энтузиаст реставратор Сергей Павлович Жилкин, со своей бригадой из добровольцев, которая постоянно пополнялась, вот к нему я и попал в начале. Каждый выходной день наша молодежная бригада, проходила по специальным пропускам на территорию завода Динамо и занималась уборкой мусора возле церкви Рождества Богородицы, что в Старом Симонове. Тогда ее еще не отдали, но церковь числилась памятником архитектуры. Жилкин был уже немолодым человеком, но горячо болеющим за судьбу русской старины. Он также относился к участникам секции МГУ ВООПИК, лично знал известного художника Павла Корина. Собственно, с Корина началось это движение воопиковцев, по восстановлению полуразрушенной и забытой церковной старины в Москве. Рубежом здесь можно считать выход статьи Павла Дмитриевича Корина, в которой он писал о судьбе церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове и захоронении там святых воинов-монахов Пересвета и Осляби. (Здесь сделать врезку о Корине, его корнях, учителе, религиозности) Это был своего рода призыв вспомнить о своих исторических корнях и многие на него откликнулись. В церкви Рождества заводские власти расположили трансформаторную будку, мы ее демонтировали отбойным молотком, потом вывозили строительный мусор. Потом переместились в Новоспасский монастырь также разбирать завалы, затем был огромный соборный храм Мартина папы Римского.
К слову сказать, тогда это движение воопиковцев активно рекламировал «Московский комсомолец», в газете печатались каждую неделю объявления о том, где в Москве и какие реставрационные работы проводятся. Это сейчас они дают объявления о ведьмах и спец. саунах, а тогда, очевидно, другой общественный интерес преобладал в Москве, и маятник их внимания был на нашей стороне.
Потом начали формироваться выездные отряды реставрации на Соловки, на Север. Был такой отряд «Малошуйки» (по названию северного села), я с ними не ездил, но это был большой отряд москвичей. Мне же пришлось ездить с отрядом Дмитрия Александровича Соколова. Поучилось так, что Соколов путешествовал по Северу и познакомился в Каргополье с одним человеком из местных, который горел желанием восстановить старинный деревянный храм на Хиж озере. Дмитрий Соколов заночевал у него, время прошло в разговорах о северной старине и после этого у москвича Соколова и появилась мысль приехать на Хиж озеро и помочь новому знакомому в его трудах. И на следующее лето туда поехала целая бригада во главе с Дмитрием Александровичем восстанавливать этот храм. А начал восстановление церкви бывший житель села Масельга Василий Макарович Солодягин. Сам он жил в Североонежске, но имел дом в Масельге и каждое лето приезжал сюда к себе на родину. И многие покинувшие село, также на лето приезжали в свои дома — кто рыбу ловить, кто грибы да ягоды пособирать, а он вот — занялся восстановлением полуразрушенной церкви. Точнее не восстановлением, на это у него не было сил, а консервацией. Я с Соколовым познакомился года за два до этих событий и через него, хотя и не сразу попал в этот московский отряд добровольных, не профессиональных реставраторов. Опыта ни у кого из нас работы с деревом особого не было. Поэтому в начале мы только таскали бревна, разобрали крышу храма, снимали прогнившие главы. Василий Макарович Солодягин был не совсем обыкновенным и случайным человеком здесь, как может показаться. Он бывал в Москве, был человеком церковным, чуть ли не лично знал Патриарха Пимена, на тысячелетие Крещения Руси в 1988 г. его специально приглашали в Даниловский монастырь на это торжество. В свой первый приезд в 1988 г. я с ним не виделся, он тогда сильно болел и не появился на нашей строительной площадке. Этою же зимой 1988 —1989 года мы приехали на Хиж озера для заготовки леса, а он как раз в это время он умер в Североонежске. И мы узнаем, что Василий Макарович только что умер и завещал похоронить себя под Хиж горой на кладбище. Кладбище располагалось на полуострове с характерным былинным названием Плакида. И вот мы с Митей Соколовым вдвоем (хорошо еще зима была мягкая) выкопали могилу и похоронили Василия Макаровича. Тело его привезли на Хижгору на северных волокушах (два бревна с помостом), прицепленных к трактору.
Итак, первый года выезда на Хиж озеро был в 1987. Тогда я еще не участвовал в работе. Когда бригада вернулась, поняв, что ничего они делать не умеют, что необходимо учиться работать с деревом и тогда приняли решение учиться рубить в Москве зимнее время. Сделали специальные топоры у кузнеца по спецзаказу. Топор древнерусской формы восстановил такой архитектор реставратор Александр Попов, личность, как и П.Д. Корин, особая в деле возрождения интереса к русской старине. Попов был не простым реставратором деревянных храмов, он занимался воссозданием древних технологий — особенностей технических умений древнерусского плотника. Знаю, что он восстановил деревянную церковь во имя святого Дмитрия Солунского в Верхней Уфтюге. Большой шатровый храм он прежде разобрал, перебрал, заменил сгнившие детали и опять собрал его. Мы с ним познакомились, когда учились рубить детский городок в Москве, в Коптеве на территории одной школы. На Попова мы смотрели как беспрекословный авторитет и когда он появился в Москве, мы его сразу пригласили посмотреть на нашу деятельность. Он тогда даже поработал с одним бревном, вырубил «чашу». Редкий образец архитектора, владеющего топором — орудием строительства и теоретика. В одном лице был и архитектор и плотник. Ободрил нас, сказал, что мы на правильном пути. У Попова был принцип — соблюдать в чистоте всю старую технологию, вплоть до того, что валить деревья следует не пилой (и тем более не электропилой), а топором.
древнерусской формы восстановил такой архитектор реставратор Александр Попов, личность, как и П.Д. Корин, особая в деле возрождения интереса к русской старине. Попов был не простым реставратором деревянных храмов, он занимался воссозданием древних технологий — особенностей технических умений древнерусского плотника. Знаю, что он восстановил деревянную церковь во имя святого Дмитрия Солунского в Верхней Уфтюге. Большой шатровый храм он прежде разобрал, перебрал, заменил сгнившие детали и опять собрал его. Мы с ним познакомились, когда учились рубить детский городок в Москве, в Коптеве на территории одной школы. На Попова мы смотрели как беспрекословный авторитет и когда он появился в Москве, мы его сразу пригласили посмотреть на нашу деятельность. Он тогда даже поработал с одним бревном, вырубил «чашу». Редкий образец архитектора, владеющего топором — орудием строительства и теоретика. В одном лице был и архитектор и плотник. Ободрил нас, сказал, что мы на правильном пути. У Попова был принцип — соблюдать в чистоте всю старую технологию, вплоть до того, что валить деревья следует не пилой (и тем более не электропилой), а топором.
Но как таковых учителей показывающих как надо правильно рубить, у нас не было, учились по книгам, а потом применяли эти знания на практике. Это не Бог весть какая наука, главное — если руки есть, то дело пойдет. Так на ходу учась, мы занимались восстановлением храма на Хиж горе. И восстановили. Тогда работа эта никак не оплачивалась, каждый ездил на Север в дни отпусков за свой счет, без каких либо меркантильных соображений. А в 1991 г., когда повсюду начали образовываться различные ООО, в том числе небольшие производственные объединения, и мы создали такую структуру — учебные реставрационные мастерские «Строй» и стали работать за деньги на выполнение заказов. А когда начали делить деньги и сами в результате разделились.
Деревянное зодчество состоит из разных направлений: плотницкое дело, резьба, столярка. В каком ритме по отношению друг к другу они развиваются сегодня, в едином, или разном?
Развиваются они, примерно, в одном ритме. Но в какой то степени столярное дело сейчас вышло вперед. Создаются образцы мебели, которые являются настоящими шедеврами, это так называемая элитная мебель. Есть в Москве мастерские, где столярами делаются очень сильные вещи. Но при этом наблюдается стилевая узость. Останавливаются на одном стиле, скажем барочном, или викторианском английском, и идет одна только эта продукция. Конечно, погоду здесь определяет богатый заказчик. Но русский стиль до сих пор не нашел себе таких богатых поклонников, между тем как его оригинальность и красота имеют не меньше достоинств и прав на существование. Но заказчик привозит свои проекты из заграницы, там он видит образцы интересной или вошедшей в моду мебели и хочет, чтобы ему сделали такую же.
Мне хотелось бы, чтобы и в плотницком деле и в резьбе и у столяров развивался в первую очередь русский стиль.
В это понятие я вкладываю все, что принято называть русским модерном, как тенденцией возвращения к русской средневековой художественной культуре (в том числе и архитектуре, точнее, через нее возвращение к русскому средневековью) на новом историческом этапе и с новыми техническими возможностями. Русское средневековье в деревянном зодчестве сохранилось на Русском Севере до сего дня в большей степени (в цельности своей), чем каменная архитектура средневековья средней полосы России. Поэтому Север так притягателен до сих пор. Но на самом деле это не классическое русское средневековье, а нечто новое. Те деревянные храмы на  Севере, которые были построены в XIX в. они строились по образцам каменных храмов эпохи классицизма. Здесь мы видим и колокольни со шпилями и упрощенные стилевые решения внешнего оформления. За счет этого деревянного классицизма в массе своей и присутствующего на Русском Севере сегодня и появилась провинциальность. Русский же модерн за 50 70 лет своего существования (если учитывать, что движение к древне-русской традиции началось с середины 19 в. в рамках «русско византийского» стиля) сумел набрать высоту не меньшую, чем архитектура в период русского средневековья (т.е. до 17 века). Хотя в чистом виде русский модерн появляется только в начале XX в. Это культурный пласт равный, нисколько не уступающий тому, что создано на Руси до этого за 7 веков христианства. Но на самом взлете это уникальное культурное явление было уничтожено революцией 1917 г. И сегодня, когда взгляды наши опять обратились в прошлое, на первый план вышел средневековый Русский Север, а русский модерн, который, кстати сказать, разорвал эту локальную (провинциальную) территориальную замкнутость, а стал общерусским культурным процессом, сегодня забыт, хотя он мог бы дать гораздо больше перспектив для национального культурного возрождения в области архитектуры и деревянного зодчества. Между тем как несоразмерные природе и постройкам центральной (особенно городской) России, северные храмы появляются здесь и, в общем то, искажают традиционный культурный ландшафт. Модерн сложнее по технологии, он словно призван вписаться в жизнь сегодняшнего города, чтобы отстаивать на высоком художественном уровне городскую архитектуру от дурной эклектики и бессодержательности, да еще амбициозности и всевдосложности современной архитектуры, которую демонстрируют заказчики т.н. «новые русские». Сердцевиной русского модерна является средневековое русское искусство, поэтому у него — живая основа, живое начало, это именно русский стиль, как органичное, опирающее на традицию явление. Недавно в Москве горела деревянная церковь Спас Преображения в Богородском и когда принялись восстанавливать ее шатровую часть, а потом расширять алтарь, то увидели она построена была (при том, что это русский модерн 19 века) в строгом соответствии с древними традициями русского храмового зодчества. Это редкий сохранившийся в Москве образец деревянного шатрового храма. Шатер не сгорел, а лишь немного обгорел. Но его не стали реконструировать (консервировать), чтобы сохранить старую технологию, а его просто разобрали и поставили новый металло деревянный каркас, который если загорится, то сгорит в 6 секунд. Это уже деградация. Если в русском стиле — модерне — мы видим развитие русской плотницкой культуры, то здесь налицо — деградация. И это явление не единичное, а характерное для нашего времени.
Севере, которые были построены в XIX в. они строились по образцам каменных храмов эпохи классицизма. Здесь мы видим и колокольни со шпилями и упрощенные стилевые решения внешнего оформления. За счет этого деревянного классицизма в массе своей и присутствующего на Русском Севере сегодня и появилась провинциальность. Русский же модерн за 50 70 лет своего существования (если учитывать, что движение к древне-русской традиции началось с середины 19 в. в рамках «русско византийского» стиля) сумел набрать высоту не меньшую, чем архитектура в период русского средневековья (т.е. до 17 века). Хотя в чистом виде русский модерн появляется только в начале XX в. Это культурный пласт равный, нисколько не уступающий тому, что создано на Руси до этого за 7 веков христианства. Но на самом взлете это уникальное культурное явление было уничтожено революцией 1917 г. И сегодня, когда взгляды наши опять обратились в прошлое, на первый план вышел средневековый Русский Север, а русский модерн, который, кстати сказать, разорвал эту локальную (провинциальную) территориальную замкнутость, а стал общерусским культурным процессом, сегодня забыт, хотя он мог бы дать гораздо больше перспектив для национального культурного возрождения в области архитектуры и деревянного зодчества. Между тем как несоразмерные природе и постройкам центральной (особенно городской) России, северные храмы появляются здесь и, в общем то, искажают традиционный культурный ландшафт. Модерн сложнее по технологии, он словно призван вписаться в жизнь сегодняшнего города, чтобы отстаивать на высоком художественном уровне городскую архитектуру от дурной эклектики и бессодержательности, да еще амбициозности и всевдосложности современной архитектуры, которую демонстрируют заказчики т.н. «новые русские». Сердцевиной русского модерна является средневековое русское искусство, поэтому у него — живая основа, живое начало, это именно русский стиль, как органичное, опирающее на традицию явление. Недавно в Москве горела деревянная церковь Спас Преображения в Богородском и когда принялись восстанавливать ее шатровую часть, а потом расширять алтарь, то увидели она построена была (при том, что это русский модерн 19 века) в строгом соответствии с древними традициями русского храмового зодчества. Это редкий сохранившийся в Москве образец деревянного шатрового храма. Шатер не сгорел, а лишь немного обгорел. Но его не стали реконструировать (консервировать), чтобы сохранить старую технологию, а его просто разобрали и поставили новый металло деревянный каркас, который если загорится, то сгорит в 6 секунд. Это уже деградация. Если в русском стиле — модерне — мы видим развитие русской плотницкой культуры, то здесь налицо — деградация. И это явление не единичное, а характерное для нашего времени.
В русском стиле в качестве архитектурного материала используется не только дерево, но и камень, то есть применялись разные материалы, но они работали на одну идею и опирались на одну традицию. Русский стиль пришел и в церковное зодчество, причем не только в каменную архитектуру, что было запечатлено в бурном строительстве храмов по проектам Константина Тона. Было и церковное деревянное зодчество в русском стиле. Он называется еще «городской стиль». Так, например, успели много построить в Архангельске. В основном строили в городах: вокруг Питера все было застроено деревянными церквами в русском стиле. В Москве было построено немало таких церквей. Сейчас остались их две или три: в Богородском — Спас Преображения, в Сокольниках — на Ширяевом Поле, в Удельной (Подмосковье). В советское время их не щадили, потому что считали новоделами, выражением не народного, а буржуазного вкуса. И была еще политика, которую выразил И. Грабарь в лозунге: «Все, что позже 17 века не является уникальным и памятником старины». И в результате мы утратили целую культуру. И сейчас начинаем с 17 в., забыв, что был русский стиль 1870 — начала 1900 х годов. Причины деградации в архитектуре сегодня именно в этом, в существовании пропасти на пути к традиции.
Еще есть проблема связи деревянной архитектуры с верой, религией. Насколько глубока эта связь?
Главное в архитектуре — это храм. От храма, как основного тонуса и развивается остальная архитектура. В русской православной традиции было принято сначала строить церковь, сюда собирались лучшие и большие творческие силы. Можно даже мысль о связи храма и гражданской архитектуры обобщить так: есть храм в городе, значит, есть здесь архитектура. Возьмем, к примеру, южнославянские страны, Болгарию, например. Пока страна была под турками, у них вообще не было архитектуры, потому, что им запрещалось строить церкви. О какой архитектуре можно было говорить, если высоту зданий мерили высотой янычара на коне. Как только освободили Софию, то построили собор св. благоверного князя Александра Невского, с этого времена начала развиваться болгарская архитектура. На Руси также было после татарского ига. Собрались псковские мастера строить в Кремле большой собор при Иване III, а не могут. Построили, он разрушился. У себя на Псковщине они строили небольшие церквушки, а вот соборы столичные уже не могли. Вот и пришлось звать итальянцев, у них ига не было. Но при этом великолепная техника итальянцев легла на архитектурные идеи старинных русских мастеров. Древние русские храмы, как того пожелал московский государь Иван III, были взяты за образцы, а не итальянские модели. Так мы вернули себе свое зодчество, через возвращение к традиции.
Важна, конечно, и личная связь архитекторов, и вообще мастеров, работающих с деревом, с верой и Церковью. С 1991 года я стал исповедоваться и причащаться. А до этого многие церковные вопросы были в голове, т.е. в сердце, но как бы в теории, не было совсем посторонним, но и не таким дорогим, которое понятно, близко и доступно. Все мы, той или иной мере следили за событиями, как то участвовали, ездили в экскурсионные поездки по монастырям. Расскажу такой случай. Работали мы на Севере, постов не соблюдали, а летом два поста — Петровский и Успенский, особенно строгий. Работа у нас тяжелая, физическая, сил требуется много, и делаем мы благое дело, можно и не попоститься ради дела. И вот Успенским постом снится мне сон, как сейчас его помню. Вижу я большими черными буквами надпись: «Успенский пост». Я проснулся и начал поститься. Сказал, что буду поститься. Вот может быть эта грань, отделяющая время «теории» от нынешней — времени «практики».
Можно ли сказать, что наша деревянная традиционная архитектура — это славянофильская философия или проповедь традиционной народной культуры?
Архитектура — это, прежде всего, культура. Архитектура испокон века считалась главным видом искусства. Она формирует культуру внешнего облика земли — города, села. Это форма культуры. По архитектуре судят о месте, где живут люди. Встреча то с чужим происходит всегда «по одежке», а уж потом «по уму». Чем самобытнее культура, чем более укоренена в почву, тем она привлекательнее. Архитектура обязательно является отражением веры народа и определяется верой. Ее формирующее начало целиком стоит на храмосозидании. В этом ее нерв, в этом ее сила и основа ее традиционных начал. Отсюда вытекает вся ее сложность и разнообразие: стили, направления. Были бы мы католиками, у нас бы была другая архитектура, вне зависимости от «русскости» природы. Значит, это не просто само по себе творчество, оторванное от жизни — результат индивидуальных технических навыков и профессионализма, а нечто вытекающее из коллективной религиозной жизни народа. Даже во внимании к дереву в русской народной архитектурной традиции само нельзя увидеть стержнеобразующую оригинальность, хотя дерево стало у нас особым материалом. Но был бы у нас изобилии камень, мы все равно бы, будучи православными, создали бы свою особую, отличную от грузинской православной традиции, свою русскую архитектурную модель. Но мы — лесная страна и поэтому у нас деревянная архитектура. Случайно это или нет, мне трудно рассуждать. Тем не менее, сложился свой культурный феномен. Нигде нет такой деревянной архитектуры, как у нас. Хотя есть и примеры других стран, с очень оригинальной художественной традицией деревянного зодчества, например, Япония. Там все храмы построены из дерева. Но там другое отношение к дереву, к традиции. Им важно один в один сохранить то, что когда то было создано. Поэтому, раз в 50 лет каждый храм перестраивается заново, полностью, но один к одному, как был разобранный храм, со всеми его технологическими особенностями. У них такой подход вызван их религиозным мировоззрением. У нас был другой подход, но на сегодня у нас утрачена связь деревянной архитектуры с религиозной традицией. Сегодня: архитектор — это одно, священник — другое, меценат — это третье, исполнитель плотник — это четвертое, и у каждого свои представления о том, как правильно делать и все опираются на свои мифы, а не на реальность. А реальность состоит в том, что высшим этапом в русском деревянном зодчестве был русский модерн. И если мы к нему не вернемся, чтобы от него отталкиваться (а чтобы отталкиваться, его нужно освоить, постичь его глубину и высоту), мы не сможем вместе работать, мы будем лебедем, раком и щукой из известной басни Крылова. Сегодняшний хаос проектов по деревянному зодчеству, который мы наблюдаем в Интернете — прямое следствие этих деструктивных процессов. Лучшее сейчас — это просто повторение «северного» стиля XIX в.
художественной традицией деревянного зодчества, например, Япония. Там все храмы построены из дерева. Но там другое отношение к дереву, к традиции. Им важно один в один сохранить то, что когда то было создано. Поэтому, раз в 50 лет каждый храм перестраивается заново, полностью, но один к одному, как был разобранный храм, со всеми его технологическими особенностями. У них такой подход вызван их религиозным мировоззрением. У нас был другой подход, но на сегодня у нас утрачена связь деревянной архитектуры с религиозной традицией. Сегодня: архитектор — это одно, священник — другое, меценат — это третье, исполнитель плотник — это четвертое, и у каждого свои представления о том, как правильно делать и все опираются на свои мифы, а не на реальность. А реальность состоит в том, что высшим этапом в русском деревянном зодчестве был русский модерн. И если мы к нему не вернемся, чтобы от него отталкиваться (а чтобы отталкиваться, его нужно освоить, постичь его глубину и высоту), мы не сможем вместе работать, мы будем лебедем, раком и щукой из известной басни Крылова. Сегодняшний хаос проектов по деревянному зодчеству, который мы наблюдаем в Интернете — прямое следствие этих деструктивных процессов. Лучшее сейчас — это просто повторение «северного» стиля XIX в.
Какие есть положительные перспективы?
Пока никаких перспектив я не вижу. Нет ни в зодчестве, в том числе в каменном, ни в плотницком деле, ни в резьбе. Были определенные надежды, связанные с архитектором Леонидом Алексеевичем Ткаченко, которому предлагали сделать большой туристический комплекс, но дальше идей и проектов дело не пошло.
Зато есть пример со знаком минус. В Измайлове выстроен так называемый деревянный кремль — образец современного упадочнического искусства. Полная профанация всего и вся. Там все неправильно. Там просто отмывают большие деньги. Нет ни плотников нормальных, ни столяров, ни архитекторов, просто — кич. Это не архитектура, а бутафория, декорация для театра.
А что касается положительного, то перспективы, увы, пока печальные. Может быть, где то в провинции, в Томске, Иркутске, где сохранилось много образцов русского модерна, причем сплошной застройки и есть движение в этом направлении. Я слышал об этом. Этим занимаются в рамках реставрации старого города. Но беда, как и везде, в наступлении «новых русских» — богатых варваров — на культурное пространство старого города. Им же нужен не сам «Парфенон», а место, где он стоял, чтобы поставить на этом историческом месте свой личный особняк «в греческом стиле». В детстве этот мальчик привык ковырять своими надписями везде, где он бывал со своими родителями, разные исторические достопримечательности: «здесь был Слава». И ему не объясняли, что это дурно, что слава и достоинство не в этом. И вот он вырос и захотел воплотить с жизнь свои детские мечты. За последние 15 лет русская провинция потеряла в результате нашествия этих варваров огромное число культурных памятников, не уничтоженных в советское время в исторической части старинных городов. И ведь некоторые из этих людей считают себя патриотами России, могут за нее порвать на груди рубаху, купленную в очень дорогом бутике, но живут в ужасном по архитектуре доме, построенном на месте разрушенного старинного особняка. А стиль, как я уже говорил, это тоже проповедь нашей самобытности и даже веры. Эти люди просто не жили и не воспитывались в русском интерьере, в русской традиции.
Сейчас кино провозглашают главным видом искусства. Как Ильич сказал, так мы и повторяем. А между тем только архитектура может заложить важнейшие фундаментальные основы национального и религиозного мировоззрения. Кино такой фундаментальностью не обладает. Хотя артисты сегодня стоят в центре художественного внимания, и они определяют сегодня погоду в искусстве. Но кино не формирует стержневое начало, а архитектура — формирует. Архитектура — это главное искусство, создающее своего рода каркас художественного мировоззрения, его границы. Кино же — это калейдоскоп, который при дурном содержании и того не делает, к чему призван. Еще в советскую эпоху понимали высокую цену архитектуры. На закате этой эпохи Ельцин произносил такие слова: «Архитектура Москвы переходит в плоскость политическую». Ныне и этого нет, а есть домостоительство, в основе которого лежит только реклама больших денег, только чистоган, — «бобло», как они говорят современные нувориши.
 Одной из важных причин, на мой взгляд, препятствующих тому, чтобы архитектурное строительство вошло в привычное русло традиционной русской школы, питаемой Православием, является сознательное сопротивление этому, русофобия, боязнь того, чтобы русские опять не обрели силу. Встав на почву традиции, мы действительно обретаем творческую силу, ведь за нами — тысячелетний опыт, молитвы русских святых, за нами величайшая культура. Был когда то в 1937 г. убийственный план реконструкции Москвы, а сейчас планы еще разрушительней, столица России должна превратиться в город без русских людей, место без корней и традиции. Но противостояние еще не закончилось, есть еще люди, которых можно убеждать и до которых можно достучаться.
Одной из важных причин, на мой взгляд, препятствующих тому, чтобы архитектурное строительство вошло в привычное русло традиционной русской школы, питаемой Православием, является сознательное сопротивление этому, русофобия, боязнь того, чтобы русские опять не обрели силу. Встав на почву традиции, мы действительно обретаем творческую силу, ведь за нами — тысячелетний опыт, молитвы русских святых, за нами величайшая культура. Был когда то в 1937 г. убийственный план реконструкции Москвы, а сейчас планы еще разрушительней, столица России должна превратиться в город без русских людей, место без корней и традиции. Но противостояние еще не закончилось, есть еще люди, которых можно убеждать и до которых можно достучаться.
То, что сохранилось в наших провинциальных городах от русского стиля конца XIX в., особенно на Севере и в Сибири, должно стать предметом вдумчивого художественного просвещения, чтобы в обществе рос интерес к этой эпохе, к этому бесценному наследию и тогда и меценаты обратят туда свой взор. В хорошем смысле необходима долговременная мода на это явление. Томск — это жемчужина, равнозначная в мире Венеции. А кто об этом знает? Есть старинные, деревянные — Тобольск, Иркутск, Архангельск. Об Устюге сейчас принято вспоминать только в предновогодние дни в связи с дедом Морозом. А ведь это уникальный архитектурный (церковный и гражданский) ансамбль под открытым небом. Кимры, преизобилующие первоклассным деревянным модерном, также мало кому известны. В Ростове Великом можно увидеть великолепные наличники в стиле модерн на деревянных домах. В Москве сохранился кусочек русского модерна в районе Новоспасского монастыря (Ленинская слобода), но уже в плохом состоянии и дома эти, очевидно, скоро сожгут, потому, постоянно горят там деревянные особняки.
Был я как то в Покровском Стрешневе, там была железнодорожная станция, сделанная в начале XX в. из дерева, по проекту известного архитектора Ф.О. Шехтеля, автора таких шедевров как Ярославский вокзал в Москве или особняк С.П. Рябушинского на ул. Качалова. Приехал я на станцию Стрешнево в 1980-годы и был просто поражен красотой работы, а потом, уже в 2000 е годы, когда вновь попал сюда попал, увидел уже другой вокзал, похожий на тысячи других безвестных и безликих. Сегодня важно хотя бы остановить варварский процесс разрушения русского модерна, наблюдаемый повсеместно, начиная от Москвы, кончая городами Севера и Сибири. Это не менее важно, чем борьба за экологию.
Беседовал О. Кириченко