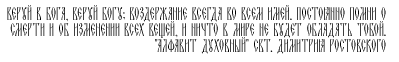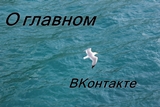Жизнь по вере
Мы для дела
МЫ ДЛЯ ДЕЛА, А НЕ ДЕЛО ДЛЯ НАС...
 Русский офицер был существом особого рода. От него требовалось очень много: он должен был быть одетым по форме, вращаться в обществе, нести значительные расходы по офицерскому собранию при устройстве разных приемов, обедов, балов, всегда и во всем быть рыцарем, служить верой и правдой и каждую минуту быть готовым пожертвовать своею жизнью.
Русский офицер был существом особого рода. От него требовалось очень много: он должен был быть одетым по форме, вращаться в обществе, нести значительные расходы по офицерскому собранию при устройстве разных приемов, обедов, балов, всегда и во всем быть рыцарем, служить верой и правдой и каждую минуту быть готовым пожертвовать своею жизнью.
... Русский офицер последнего времени не утратил прежних героических качеств своего звания. Рыцарство оставалось его характерной особенностью. Оно проявлялось самым разным образом. Сам нуждающийся, он никогда не уклонялся от помощи другому. Нередки были трогательные случаи, когда офицеры воинской части в течение одного-двух лет содержали осиротевшую семью своего полкового священника или когда последние копейки делились с действительно нуждающимся человеком. Русский офицер считал своим долгом вступиться за оскорбленную честь даже малоизвестного ему человека; при разводе русский офицер всегда брал на себя вину, хотя бы кругом была виновата его жена, и т. д.
В храбрости тоже нельзя было отказать русскому офицеру: он шел всегда впереди, если необходимо, смерть принимал мужественно. Более того: он считал своим долгом беспрерывно проявлять храбрость, часто подвергая свою жизнь риску, порой без нужды и пользы. Его девизом было: умру за царя и Родину.
Наше офицерство до самого последнего времени многие обвиняли в пьянстве, дебошах и распутстве. Такие обвинения были до крайности преувеличены. В прежнее время, вплоть до русско-японской войны, пьянство, со всеми сопровождающими его явлениями, действительно процветало, в особенности в воинских частях, заброшенных в медвежьи углы, например в Дальневосточных, Туркестанских, Кавказских и других частях, стоявших в глухих, далеких от центров городишках, в селах и местечках. Там свою оторванность от культурной жизни, скуку и безделье офицеры заглушали хмельным питием и разными, иногда самыми дикими проказами. Но после русско-японской войны лик армии в этом отношении совершенно изменился: армия стала трезвенной и благонравной. Поклонники лихого удальства готовы были усматривать в этом нечто угрожающее доблести армии, считая, что офицер - "красная девица" не может быть настоящим воином, в чем они, конечно, ошибались.
В сентябре я выехал из Ставки на Северо-западный фронт, обходил госпитали в Гродно, переполненные ранеными воинами, беседовал с последними, наделял их иконками и крестиками, принимавшимися с радостью и благодарностью. Некоторым давал деньги.
Посещение госпиталей всегда доставляло мне огромное нравственное удовлетворение. Тут я не только больным приносил утешение, но (еще более) для себя лично черпал новые силы, встречаясь на каждом шагу с примерами удивительного терпения, самопожертвования, кротости и мужества, на которые так способны были эти простые, часто неграмотные, во многом невежественные люди.
В Гродненском местном лазарете, в то время развернувшемся в огромный военный госпиталь, было большое отделение для тифозных. Я попросил провести меня в палату самых тяжелых больных. Это была большая комната, где лежало около 40 человек: одни бредили, другие еще не потеряли сознания. Я подходил к каждой постели, вступая в разговор с последними. В левом углу комнаты, как сейчас помню, на кроватях лежали два солдата: маленького роста, с жиденькими бородками, уже немолодые — лет по 40. Оба — костромские. Когда я приблизился к ним, они устремили на меня глаза и протянули руки ля благословения.
— Батюшка, — обратился ко мне один, — попросите, чтобы меня скорее отправили на фронт. А то земляки там воюют, а я тут без толку лежу.
— И меня тоже, — прошептал другой.
— Вы одинокие? — спросил я.
Оказалось, что у одного четверо детей, у другого пятеро и жены дома остались. По их лицам я не мог определить серьезности их положения и поэтому тихо спросил об этом сопровождавшую меня сестру.
— У обоих температура около 40, положение очень серьезное, — ответила она. Мне оставалось только успокоить их, что они будут отправлены на фронт тотчас, как только немного окрепнут, и попросить, чтобы терпеливее ждали этого момента и собирались с силами.
Вспоминаю другой случай. Перевязочный полковой пункт. Я — около умирающего от страшного ранения в грудь солдата. Последние минуты... Жизнь быстро угасает.
Уклонившись над умирающим, я спрашиваю его, не поручит ли он мне написать что-либо
его отцу и матери.
— Напишите, — отвечает умирающий, — что я счастлив... спокойно умираю за Родину... Господи, спаси ее!
Это были последние его слова. Он скончался на моих глазах, поддерживаемый моей рукой.
Еще пример. 17 октября 1915 г. я был на Западном фронте в 5-й дивизии. В одном из полков (кажется, в 20-м пехотном Галицком) после моей речи и переданного мною полку привета государя выходит из окружавшей меня толпы солдат унтер-офицер и, поклонившись мне в ноги, произносит дрожащим голосом: — Передайте от нас этот поклон батюшке-царю и скажите ему, что все мы готовы умереть за него и за нашу дорогую Родину...
Солдатское громкое "ура" заглушило его дальнейшие слова.
... В мирное время штатные священники имелись при всех пехотных и кавалерийских полках и лишь при некоторых артиллерийских бригадах, саперных и железнодорожных батальонах. Большинство же артиллерийских бригад и разных батальонов обслуживались соседними полковыми священниками, а иногда епархиальными. На войну, таким образом, они вышли без них. Без священников же оказались в первое время на войне множество разных других организаций: парков, обозов, передовых санитарных пунктов, и даже госпиталей. Обслуживать их служители церкви, обязанные находиться все время при своих частях, не могли. Ходатайствовать об открытии ряда новых священнических вакансий не представлялось возможным в видах экономии, которую тогда все старались соблюдать. Создавалось затруднительное положение. И вот в это время, в половине августа 1914 года, я получил извещение от Кишиневского архиепископа Платона, что кишиневское духовенство посылает в армию двадцать девять священников на полном содержании епархии. А вслед за извещением явилась ко мне первая партия командированных.
В последних числах сентября 1914 года я уже телеграфировал архиепископу Платону: "Труды Бессарабского духовного отряда в боевой линии выше всякой похвалы". А в октябре того же года вновь сообщил ему, что бессарабские пастыри-добровольцы "развивают богатую деятельность с большим усердием".
В течение всей войны архиепископом Платоном беспрерывно посылались на театр военных действий вагоны со всяким нужным, для воинов добром, на мое имя было прислано 15 или 16 вагонов.
Раздавать присылаемые из Кишинева вещи и продукты мне было нетрудно. Отправляясь на фронт, я обыкновенно брал с собою кишиневский вагон или два и на фронте распределял содержимое по большей части между сибирскими, туркестанскими и кавказскими частями, которые реже других получали подарки из России.
Единственным руководством для священника на войне служило высочайше утвержденное положение об управлении войск в военное время. Но оно не предусматривало всех обязанностей священника, а тем более возможной для него работы на бранном поле. Иногда же своею краткостью оно сбивало с толку не только рядовых священников, но и начальствующих лиц. Присланный из Иркутской епархии священник Попов явился в госпиталь, согласно положению, с епитрахилью, дароносицей, крестом и кадилом, без антиминса и полного священнического облачения. Когда благочестивый главный врач госпиталя попросил его отслужить литургию, он ответил, что у него нет принадлежностей для этого, да он и не обязан совершать литургии: согласно положению, его дело - напутствовать и хоронить. Когда в 1904 году благочинный 9-й Сибирской дивизии потребовал от подчиненных ему госпитальных священников, чтобы они обзавелись антиминсами и совершали литургии, его начальник - главный священник Маньчжурской армии, прот. С. А. Голубев возразил ему: "Госпитальному священнику антиминса не полагается". А между тем, где же на войне служить литургии, как не в госпиталях?
На Великую войну уже наши священники отправились со строго разработанной инструкцией.
Инструкция эта не была кабинетным произведением - она вылилась из опыта и пристальных наблюдений за всеми возможностями, какие представляются для работы священника на поле брани. Мой личный опыт и мои наблюдения во время русско-японской войны, где я проработал два года, в должности сначала полкового священника и благочинного, а потом главного священника, и вместе с полком участвовал в десяти боях, был контужен и ранен, - были дополнены опытом и наблюдениями множества других моих сослуживцев — участников той же войны.
Значение инструкции было колоссально. Во-первых, она вводила в точный круг обязанностей каждого, прибывающего на театр военных действий, священника. Это в особенности важно было для вновь мобилизованных, совершенно незнакомых с условиями и требованиями военной службы. А их было огромное большинство: в мирное время в ведомстве протопресвитера состояло свыше 5000 человек. Инструкция точно разъясняла каждому - полковому, госпитальному, судовому и др. священнику, где он должен находиться что он должен делать во время боя и в спокойное время, где и как он должен совершать богослужение, о чем и как проповедовать и т. д.
Между прочим, полковому и бригадно-артиллерийскому священникам было указано, что их место во время боя - передовой перевязочный пункт, где обычно скопляются раненые, а ни в коем случае не тыл. Но и к этому пункту священник не должен быть привязан: он должен был пойти вперед - в окопы и даже за окопы, если того потребует дело.
Помимо общеизвестных обязанностей священника: совершения богослужений, напутствований, погребений, наставлений и ободрений, инструкция возлагала на священника много таких обязанностей, о которых и не помышляли его предшественники. Строевому священнику вменялось в обязанность: помогать врачам в перевязке раненых, заведовать уборкою с боевого поля убитых и раненых, заботиться о поддержании в порядке воинских могил и кладбищ, извещать возможно обстоятельнее родственников убитых, организовывать в своих частях общества помощи семьям убитых и увечных воинов, развивать походные библиотеки и т. д. Госпитальному священнику вменялось в обязанность: возможно чаще совершать богослужения для больных, ежедневно обходить палаты, беседовать, утешать, писать письма от больных на родину, об умерших извещать их родственников, погребать покойников с возможною торжественностью, пещись о кладбищах, обязательно устраивать библиотеки и т. д.
Инструкция открывала каждому священнику широкое поле весьма полезной, нередко трудной, но не неисполнимой работы...
Духовный управительный аппарат на театре военных действий представлял стройную и совершенную организацию: протопресвитер, его ближайшие помощники, главные священники, их помощники, штабные священники, наконец, дивизионные госпитальные благочинные и гарнизонные священники.
В конце 1916 года высочайшим повелением были учреждены должности главных священников Балтийского и Черноморского флотов. Для лучшего объединения и направления деятельности духовенства армии и флота от времени до времени составлялись совещания протопресвитера с главными священниками, последних со штабными священниками и благочинными и Съезды по фронтам, под председательством протопресвитера или главных священников.
Я, в течение почти каждого месяца, дней десять проводил среди боевых частей, объезжая полки и бригады, посещая иногда под огнем, окопы, заглядывая во все госпиталя, везде совершая богослужения, проповедуя.
Поездки эти имели большое значение. Я являлся не только как протопресвитер, но и как представитель Государя, от имени которого я всегда приветствовал войска, раздавая при этом врученные мне Императрицею крестики и иконки. Мои приветствия и посещения, в особенности опасных мест, подымали дух, укрепляли воинов.
При посещениях госпиталей, перевязочных пунктов, окопов мне легко было убедиться, часто ли посещаются эти места сопровождающим меня полковым или госпитальным священником, правильно ли он понимает и усердно ли исполняет свои обязанности, как к нему относятся нижние чины и офицеры. Усердный священник прекрасно знал расположение на позиции полковых рот, храбрых и трусливых солдат, встречался окопах как чистый и приятный гость. Усердный госпитальный священник хорошо знал каждую палату и состояние каждого больного. Как тот, так и другой, хорошо знали все требования, предъявленные им инструкцией и моими циркулярами.
Должен, по совести сказать, что почти всегда мне приходилось слышать и от начальствующих лиц, и от рядовых офицеров самые лестные отзывы о работе военных священников.
В целом в Великую войну военное духовенство впервые работало дружно, согласно, по самой широкой программе. Священники делили с воинами все тяжести и опасности войны, возбуждали их дух, своим участием согревали уставшие души, будили совесть, предохраняли наших воинов от столь возможного на войне ожесточения и озверения. Повествования о подвигах военных и морских священников составили бы большую книгу. Упомяну о некоторых из них.
Протоиерей 7-го Финляндского стр. полка Сер. Мих. Соколовский, прозванный французами (вторую половину войны он провел на французском фронте) за свою храбрость "легендарным священником", дважды раненный, во второй раз с потерею кисти правой руки, совершил такой подвиг: 7-му Финляндскому полку на австрийском фронте нужно было разрушить неприятельское проволочное заграждение. Было сделано несколько попыток, с большими потерями, но успеха не было. Охотников не находилось на новые попытки. Тогда вызвался о. Сергий.
- Ваше ли это дело, батюшка? - ответил ему командир полка.
- Оставим, г. полковник, этот вопрос, - возразил о. Сергий. - Полк должен уничтожить заграждения... Почему же я не могу сделать это? Это же не убийство. Командир полка дал разрешение. О. Сергий отправился в одну из рот.
- Кто со мной рвать заграждения? - обратился он к солдатам. Вызвалось несколько десятков человек. Он облек их в белые саваны, - дело было зимой, - и, двинувшись под покровом ночи, разрушил заграждения. Дума присудила ему за это орден Св. Георгия 4-й степени.
9-й драгунский Казанский полк должен был двинуться в атаку на австрийцев. Раздалась команда командира полка, но полк не тронулся с места. Жуткая минута! Вдруг вылетел на своей лошаденке скромный и застенчивый полковой священник о. Василий Шпичек и с криком: "За мной, ребята!" понесся вперед. За ним бросилось несколько офицеров, а за ними весь полк. Атака была чрезвычайно стремительной; противник бежал. Полк одержал победу. И о.. Василий был награжден Св. Георгием 4-й степени.
16 октября 1914 года геройски погиб священник линейного заградителя "Прут", иеромонах Бугульминского монастыря, 70-летний старец Антоний (Смирнов). Когда "Прут" во время боя начал погружаться в воду, о. Антоний стоял на палубе и осенял Св. Крестом свою паству, в волнах боровшуюся со смертью. Ему предлагали сесть в шлюпку, но он, чтобы не отнять место у ближнего, отказался. После этого он спустился внутрь корабля и, надев ризу, вышел на палубу со Св. Крестом и Евангелием в руках и еще раз благословил своих духовных чад, осенив их Св. Крестом. А затем вновь спустился внутрь корабля. Скоро судно скрылось под водой.
Священник 154-го пехотного Дербентского полка, Павел Иванович Смирнов, своим мужеством и спокойствием в трудную минуту так поднял дух полка, что, увлеченный своим пастырем, полк не только преодолел опасность, но и одержал победу. Имя о. Павла после этого стало геройским для всей Кавказской армии. И он был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
В бою 19 октября 1916 года священник 318 Черноярского пехотного полка Александр Тарноуцкий, иеромонах (имени его не помню), исполнявший обязанности священника в одном гвардейском строевом полку, и несколько других полковых священников были убиты, когда они с крестом в руках шли впереди своих полков. Другие погибли во время перевязки или уборки раненых с поля сражения.
Из оставшихся в живых героев-пастырей 14 были награждены офицерскими Георгиевскими крестами 4-й степени. За все время существования Георгиевского креста, от Императрицы Екатерины II до Великой войны, этой награды было удостоено всего 4 священника. А во время этой войны - 14. Каждый из этих 14 совершил какой-либо исключительный подвиг.
Кроме того, более 100 священников были награждены наперсными крестами на Георгиевской ленте. Для получения этой награды также требовался подвиг.
Одни из этих награжденных получили такую награду за особо мужественное исполнение своих обязанностей под огнем неприятеля, другие - за вынос раненых из линии огня и т. п. Священник 119 пехотного Коломенского полка Андрей Пашин спас свой полк от неминуемой гибели. Не разобравшись в обстановке и направлении, командир этого полка при передвижении повел свой полк в самое опасное место, где его ожидали расстрел или пленение. О. Андрей понял ошибку командира и убедил его направить полк в противоположную сторону. Совсем другого рода был подвиг иеромонаха Н., священника одного из второочередных полков. (Не могу вспомнить ни его имени, ни полка, в котором он служил.) В один из воскресных дней 1915 г. на Галицийском фронте, вблизи боевой линии, в брошенной униатской церкви он совершал литургию. Церковь была переполнена воинскими чинами. В храме совершалась бескровная жертва, а вблизи шел бой, лилась человеческая кровь. Обычная на войне картина... Беспрерывно громыхали орудия; снаряды то перелетали через храм, то, не долетая, ложились впереди его. А молящиеся, привыкшие к вздохам пушек и пению снарядов, как будто не замечали опасности. Литургия приближалась к концу - пели "Тебе поем"... Священник читал молитвы. Вдруг снаряд попадает в церковь, пробивает крышу и потолок алтаря и падает около престола с правой стороны. Иеромонах спокойно прервал чтение тайных молитв. "Будь ты проклята, окаянная!" - громко произнес он и при этом перекрестил бомбу, начав после этого так же спокойно читать прерванные молитвы. Снаряд не разорвался, а молящиеся, видя спокойствие священника, остались на местах и продолжали молиться. По окончании литургии снаряд был вынесен из храма. Узнав об этом происшествии. Государь наградил мужественного иеромонаха наперсным крестом на Георгиевской ленте.
Естественными помощниками командного состава в деле духовного воспитания войск являлись священники. Большинство священников запасных батальонов назначались епархиальными архиереями и фактически оставались в их ведении. Хороший священник мог принести батальону большую пользу. Но самые лучшие священники не могли дать всего, что требовалось для батальона, - ведь иные батальоны, как я уже заметил, насчитывали в себе по 18-25 тысяч человек.
Недостаточность наличных духовных сил для воспитания в запасных батальонах в особенности сильно ощутилась во второй половине 1916 года, когда усталость от войны дала себя чувствовать сильнее и когда одновременно с этим сильнее выявились симптомы разлагающей пропаганды. Последняя отчасти касалась и флота, главным же образом она разрасталась в тылу: в запасных госпиталях, в санитарных поездах и больше всего в запасных батальонах. Во фронтовой полосе работали неприятельские шпионы-агитаторы, в тылу же пропаганда шла и еще из двух центров: из пораженческого лагеря наших политиков и сектантов.
Для усиления, в противовес таким влияниям, здорового духовного воспитания войск была сделана попытка в помощь офицерам и священникам запасных батальонов привлечь другие культурные силы. Первый опыт был сделан протоиереем В. Грифиовым в Жмеринке, где стояла чуть ли не целая запасная бригада. Там был составлен кружок из местных священников, учителей гимназий, судебных деятелей и других интеллигентов, организовавший для солдат лекции по разным отраслям знаний. Опыт очень удался.
Совокупность всех этих условий побудила меня представить в декабре 1916 года генералу Гурко докладную записку, в которой я доказывал необходимость принятия экстренных мер для духовного воспитания и укрепления армии, в особенности запасных ее частей. При этом я рекомендовал: во всех городах, где стоят запасные части, организовать подобные жмеринскому культурно-просветительные кружки и обратить особое внимание на сектантскую пропаганду в войсках тыла.
На фронте, как я уже сказал, пропаганда была менее чувствительной и заметной. Более всего страдают от нее Рижский фронт. Немцы избрали г. Ригу базой для своих шпионов и пропагандистов. Город кишел теми и другими. Пропаганда велась осторожно, но ловко и действенно, высшему командованию приходилось то и дело перемещать с этого фронта воинские части и заменять их новыми, не тронутыми пропагандой, которых вскоре ожидала участь первых. Между тем близость этого фронта к Петрограду делала его особенно ответственным.
В декабре 1916 года на Рижском фронте начались бои. В начале их мы имели некоторый успех, а потом произошла заминка. Начальник штаба посоветовал мне проехать туда, чтобы подбодрить нуждавшиеся в моральной поддержке войска, и просил при посещении воинских частей обратить особое внимание на 5-ю Сибирскую стрелковую дивизию и главным образом на 17-й Сибирский стрелковый полк, отказавшийся несколько дней тому назад идти в наступление и теперь, как больной, изолированный от других. Я попросил генерала известить кого надо, что завтра, в день Рождества Христова, я совершу литургию в церкви этого полка.
Рано утром 25 декабря в сопровождении штаб-офицера Генерального штаба я отправился в штаб Сибирского корпуса, в состав которого входила 5-я Сибирская стрелковая дивизия, а оттуда с командиром корпуса генералом Гандуриным выехал в расположение полка. Нас встретил выстроенный около церкви шпалерами полк с командиром во главе. Церковь помещалась в огромной землянке, которая теперь внутри была очень красиво декорирована ельником и искусственными цветами. Вслед за мною вошли в церковь встречавшие меня офицеры и солдаты. В настроении всех чувствовалось и смущение, и тревога. На прославившийся в русско-японскую войну полк только что легло пятно измены. Теперь один его батальон, как заразный больной, был отделен, обезоружен и под караулом помещался верстах в трех от полка. С остальными тремя батальонами не сообщались другие полки дивизии. Тяжело было смотреть на офицеров, особенно на старших, - многих из них я знал по русско-японской войне. Они были живыми свидетелями прежней славы полка, участниками его радостей и побед. Теперь лица их горели от стыда за родной опозорившийся полк. Мое прибытие и служение в их церкви в другое время увеличило бы торжество праздника. Теперь же для всех было ясно, что мое появление среди них вызвано изменой полка своей воинской чести.
В конце литургии я обратился с поучением. Я говорил о том, что в настоящее время во всем мире нет мира, но что может быть мир в нашей душе, в нашей совести от сознания каждым из нас честно исполненного долга через христиански-терпеливое и мужественное перенесение для блага Родины, для счастья наших близких разных трудов, лишений и страданий; что может быть мир в душе от чистой совести перед Богом, перед Родиной, перед ближними своими. Затем коснулся я прошлого полка, когда он покрывал свои знамена славой, удивляя других мужеством и доблестью. Наконец, заговорил о страшном несчастье, постигшем и опозорившем полк, о последней измене полка своему долгу. Я не могу воспроизвести слов, в которых я изображал ужас измены, позор перед миром, преступление перед Родиной. Помню, что во время моей речи послышались всхлипывания, потом рыдания. Опустились на колени сначала первые ряды, потом все. Все плакали, начиная со старых полковников, кончая молодыми солдатами. "Кайтесь!" - раздался чей-то голос. "Простите! Будем верны! Исправимся!" - отовсюду отвечали голоса. Картина была потрясающая. Мерцавшие свечи, кадильный дым, низкая крыша храма, как крышка гроба, спускавшаяся над этой массой склоненных, каявшихся голов, еще более усиливали впечатление...
Кончилась служба. Молящиеся, все до одного, приложились ко кресту. Из церкви я, в сопровождении командира корпуса, командира полка, священников и нескольких офицеров, отправился в изолированный батальон.
К нашему приезду солдаты без оружия, как я уже заметил, они были обезоружены, стояли, выстроившись, около небольшой походной церкви. Командир корпуса предупредил меня, что настроение в батальоне дурное. Я поздоровался с выстроенными и затем пригласил их войти в церковь, где, облачившись, начал служение молебна о ниспослании Божией помощи. В конце молебна, когда души воинов умиротворились молитвою, я обратился к ним со словом. Я начал осторожно с разъяснения высоты воинского долга, представил ряд примеров самоотверженного его исполнения, потом коснулся славной! истории полка, принесшего в течение этой войны множество жертв, обязывающих всякого, кто остался в живых, продолжить подвиг павших, чтобы не обесценить пролитой ими крови Когда я заметил, что внимание моих слушателей достаточно напряжено, а сознании виновности уже возбуждено, - тогда я взял более решительный тон, заговорив об измене как величайшем преступлении. Я не жалел красок, чтобы ярче представить тяжесть и гнусность совершенного батальоном проступка.
- Вы послушались врагов Родины, немецких шпионов, наполняющих Ригу, и разных предателей, которые хотят погубить нашу державу. Вы, доверившись им, изменили присяге;
вы не поддержали в бою братьев своих, которые за вашу измену заплатили лишними жертвами, лишней кровью. Вы опозорили свой родной славный полк. Чего достигли вы? Враги наши скажут о вас: "Какие-то изменники, негодяи пробовали своей изменой помочь нам, но другие, честные русские полки устояли и не позволяли нам достичь успеха". Родина жестоко осудит вас. Ваши же родители, с благословением отпускавшие вас для честной службы, ваши близкие родные могут лишь проклятием ответить вам на вашу измену. Ваши павшие доблестные товарищи, когда вы там на небе встретитесь с ними, с отвращением отвернутся от вас. Ужель с изменой на лицах, с проклятием на головах вы сможете спокойно жить на земле? Ужель радости и счастье могут быть уделом изменника, проклятого? Поймите, что сделали вы! Кайтесь в своем тяжком грехе! Загладьте его!
Сопровождавшие меня офицеры потом говорили мне:
- Мы боялись за вас, как бы они за вашу слишком прямую и резкую речь не набросились на вас.
Но мой расчет оказался верным. Речь моя задела моих слушателей за живое. Слезы их были ответом на мои резкие укоры и обвинения.
- Что же скажу я о вас Государю, когда вернусь и увижу его? Могу ли я сказать, что вы осознали свой грех, раскаиваетесь в нем и не повторите его? - обратился я к ним.
- Скажите, скажите! - послышалось со всех сторон.
-Это не слова? Обещаете вы быть воинами?
- Обещаем, обещаем!
- А не изменниками, не трусами?..
- Нет, нет!
- Помните, что в храме перед крестом даете вы такое обещание! Идите же и в знак обещания целуйте крест!..
Один за другим, тихо и молча, с серьезными лицами, иные с заплаканными глазами стали подходить воины ко кресту. У меня самого сердце разрывалось на части от такого покаянного зрелища. Вообще бесконечно тяжела обязанность пастыря звать других на подвиг смерти. В данном же случае мне приходилось звать к усиленному подвигу, которым провинившиеся должны были загладить преступление.
Мне рассказывали, что через два дня этот батальон доблестно участвовал в атаке, во время которой многие, несомненно, смертью искупили свой грех.
Объявившаяся в славном 17-м Сибирском стрелковом полку измена была своего рода memento mori для последующего времени.
Но быстрота, с которою она была потушена, показывала, что можно было тогда найти доступ к сердцу русского солдата. Замечательный подвижник этот русский солдат! Каждый поручик мог вернуться с войны генералом; никому не известный до войны офицер мог сделаться знаменитым полководцем. Для солдата же высшей наградой могло быть -остаться живым и здоровым вернуться к семье. И этой возможностью, этой мечтой он должен был жертвовать в каждую минуту своего пребывания на фронте. У офицера на войне одним из стимулов могло служить и честолюбие; у солдата - почти исключительным -совесть. Как же глубока и прочна была солдатская совесть, когда наш дореволюционный солдат бескорыстно, терпеливо и самоотверженно переносил все ужасы войны, прощал окупаемые солдатской кровью многие ошибки старших и покорно умирал за других. Одним из первых дел революции было то, что у солдата засорили его совесть, внушив ему, что нет Судьи человеческой совести, т. е. Бога, что он должен жить для себя, а не для других, помнить о земле и забыть о небе.
Традиция в жизни - великое дело. Она передает из рода в род добрые обычаи и часто охраняет нравы. Она объединяет, воодушевляет и двигает массы. В военной жизни традиции имеют огромное значение. В этом я неоднократно убеждался при поездках на фронт...
В октябре 1916 года на Кавказском фронте в нескольких верстах за Эрзерумом, у самого Евфрата, я встретил бивуак 1-й Кубанской пластунской бригады. Конечно, я должен был задержаться. По обычаю, сначала я помолился с ними, потом они радушно, по-кавказски угостили меня и не только хлебом с солью, но и залихватскими песнями и лихими
казачьими танцами. Как сейчас, вижу эту картину: два казака лихо под оркестр музыки отплясывали лезгинку, а остальные, образовав огромный круг, сидели на корточках и, ударяя в ладоши, отбивали такт. Тогда я впервые созерцал такую картину.
В самый разгар веселья, когда на минуту водворилась тишина, командир бригады Генерального штаба генерал-майор И. И. Гулыга вдруг обратился ко мне:
- Ваше высокопреподобие! Видите моих молодцов? Какие они в веселье, такие и в бою. Его величество в свой последний приезд сюда видел их, слышал об их боевой работе, похвалил и обещал отличить - дать шефство всем полкам. Мы все верим, что царское слово твердо, но батюшка-царь медлит. Наша к вам просьба: напомните ему о моих казаках и о его обещании.
Конечно, я пообещал исполнить просьбу и исполнил. При своем общем докладе о поездке по Кавказскому фронту я доложил Государю и о моей встрече с пластунами. "Они не забыли о вашем обещании дать шефство полкам их бригады и ждут от вас такой милости", - добавил я Государю. Очень скоро вышел царский указ, коим, кажется, двум полкам 1-й Кубанской пластунской бригады назначались шефами дочери Государя.
Протопресвитер Георгий Шавельский Среда, 16 июня 1943 г.